Мне кажется, это зависит от давления крови. У меня низкое давление, поэтому утром я не могу проснуться. Вдобавок ко всему, я только что из Китая, так что на меня все еще действует разница во времени в шесть часов, и проснуться утром почти невозможно. Если бы это был не TUT.BY, я бы не пришел.
Вы уже несколько дней в Минске. Насколько я знаю, такое продолжительное время в Беларуси вы никогда не были.
Никогда. Я был день-два, а сейчас уже третий день.
По дому скучаете?
Постоянно. Я ведь все время в творческих путешествиях.
Тот творческий процесс, который происходит у вас сейчас в Минске, - репетиции премьерного спектакля, утром и вечером, скуку не сглаживают?
Думать о скуке нет времени. Понимаете, будучи студентом, а потом работая в разных странах, я понял, что в искусстве – и в нашем, и в вашем, журналистском, - нормальное состояние – это безработица. Подсознательно мы все – творческие люди - готовимся к безработице. А если работа появляется, то это великое благо. Систематически и постоянно работает врач, рабочий на заводе, производстве, а те, кто в творчестве, - работают тогда, когда творчество требует именно их "вмешательства" в процесс. Но это требуется не постоянно, так как творчество – не конвейер.
То есть безработица даже для вас – это нормально?
Абсолютно. К счастью, я постоянно в работе, но даже в моем случае считаю ее большим благом, счастьем, если хотите. Я с утра до вечера занимаюсь интересными вещами – это исключение из правил. Огромное число людей делает то, что им неинтересно: например, некоторые трудятся в банке и изо дня в день считают деньги. Деньги не очень интересны: приятно их зарабатывать, тратить, но считать их годами на рабочем месте...
Вы не думаете, что именно от человека зависит, чем он будет заниматься? Человек ведь сам делает выбор. У вас тоже – изначально физика, затем философия и лишь после этого режиссура.
Это правда, но я прошел долгий путь, так как долго искал себя. Искал и нашел. Не всем повезло, не все открыли в себе возможность и желание поиска. Не все открыли в себе какой-то талант, свой талант. Я считаю, что определенным талантом Бог наградил каждого – нет бесталанных людей. Даже уборщица может быть талантливой; а я встречаю много уборщиц, наблюдаю за ними и знаю, что есть такие, которые делают свою работу интеллигентно, вкладывают себя, и от них в этот момент глаз не оторвать, но большинство ведь убирает бездарно.
Свое призвание можно найти в любом деле, но надо искать – искать, а не сдаваться. Если человек свое призвание не нашел, тогда он теряет жизнь, прожигает ее, а это очень опасно: большинство людей, занимаясь нелюбимым делом, просто теряют время, теряют себя, а все, что находят в данном случае – несчастье, раздражение и постоянную неудовлетворенность.
Вы долго искали? Мне интересен сам процесс. Как долго вы "прощупывали" те сферы, в которых вы были, - физика, философия, и как, в конце концов, пришли к режиссуре? Это было понимание того, что надо искать: вы понимали, что там не ваше, а где-то ваше, и всячески к этому шли? Надолго ли затянулся у вас этот процесс?
Вы представляете себе его довольно точно. Это было десять лет: десять лет я учился на разных факультетах в университете, потом в киношколе, и не знал, мое это или не мое. Это были страшные времена. Я знаю, что сейчас нас читает молодежь, а я всегда говорю молодым: не бойтесь, хуже, чем есть, уже не будет. Лучший период нашей жизни – это юность. Он лучший, но самый сложный…
Почему?
Потому что есть неуверенность, потому что в молодом возрасте мы еще не знаем устройство этого мира, жизни, - мы все должны проверить на себе, на это необходимо время, а время уходит. Есть наследие, результат решений, принятых ранее: мы влюбились не в того человека, начали работать не в том месте, мы развивали наш характер, делая ставки не на те внутренние особенности... После чего приходилось делать "работу над ошибками", что всегда сложно и занимает дополнительное время на исправление ситуации. А время лукаво, оно уходит. Поэтому я и называю молодость временем огромного напряжения. Легче становится уже с годами, с опытом. Поэтому, повторюсь, не бойтесь: хуже, чем сейчас, вам, молодым, уже не будет.
Но для того, чтобы стало легче, нужно хотеть искать…
Если я упал в воду и не хочу выплыть – я утону.
Но ведь хотят-то не все.
И тонут. Я видел много "утопленников". Живые утопленники – люди, которые проиграли жизнь, хотя все еще молоды. Это страшно.
Есть предмет, придуманный мной, - "Стратегия жизни", который я преподаю в политехническом институте. Лекции в форме докладов. Кстати, меня приглашают с ними в Америку: есть сейчас такая мода на авторские доклады. Так вот, я показываю отрывки из моих картин, но не для того, чтобы говорить о кино, а для того, чтобы на примере героев моих фильмов показывать, как люди относятся к несправедливости, к различным жизненным обстоятельствам, как они решают проблемы, анализируют их, стоят перед выбором: простить и забыть или не прощать и помнить, растрачивая себя на ненависть? Здесь простых ответов нет, но задуматься над этим стоит.
В молодости вы были таким же ищущим?
Знаете, условия моей жизни не оставили мне никакого выбора: если бы я не был ищущим, я бы не был тем, кем стал. Я пережил войну; это очень страшные воспоминания, детские воспоминания – мне было пять лет, когда война окончилась, но даже в том возрасте остались неизгладимые впечатления, я думал о том, что со мной может произойти то, что произошло с другими; что жизнь – это тоже исключение, а смерть – норма, и то, что мы живы, - уже благо, за которое человек ответственен.
Я пережил войну, мои родители пережили, хотя жизни наши были в постоянной опасности - по нам стреляли. Поэтому я всегда задавался вопросом: если я пережил войну, остался жить, то в чем смысл моей жизни? Ради чего? Я до сих пор задаюсь этим вопросом. Я пожилой человек, люди ведь не любят пенсионеров, говорят, мол, пенсионеры их давят, тянут вниз…
Вы считаете себя пенсионером? Пенсионер Кшиштоф Занусси…
Я никогда пенсии не получал, но я всегда думаю: надо оправдать свое существование, оправдать то, что мне 71 год, и я еще здоров. Значит, это не просто так, не просто так мне даны силы и мозг, который работает в моем возрасте, значит, мне нужно не только использовать свои возможности для самого себя, но своими действиями, решениями, работой оправдать то, что я жив и еще способен принести пользу.
Из вашего рассказа я понял, что после войны у вас поменялось отношение к смерти.
Смерть была вокруг меня, от этих воспоминаний невозможно уйти, забыть. Тогда я понял, что со смертью надо общаться…
Как говорил Ремарк, смерть надо уважать.
Это правда. Самое страшное – быть трусом и жить, как будто смерти не было, как будто другие умирают, а меня это не касается. Нет, это касается всех. Вопрос в другом: как общаться со смертью? Ответ у каждого свой, но не общаться, не замечать, не уважать смерть опасно.
21 сентября состоится премьера вашего спектакля "Дева и Смерть". Его вы ставили в разных странах и с разными актерами. Есть ли у этой постановке белорусская особенность?
Я думаю, что есть. Мне немного неловко об этом говорить. Если человек делает спектакль на основе одного текста, но берет других актеров, пьеса обретает иной характер. Актеры играют по-другому, акценты другие, и, я думаю, что контекст тоже другой. Десять лет назад я поставил эту пьесу в Германии, в Берлине, и тогда для немцев она имела свое значение, но совсем другое, чем здесь, в Беларуси. Это почувствуют зрители; я не могу это комментировать, но надеюсь, люди поймут, что проблемы, которые поднимаются в этом произведении, касаются и их.
О чем она?
Хотя пьеса создана в Южной Америке чилийцем, она имеет свой универсальный характер. В Польше я тоже ее ставил и заметил, что у нас она тоже вызывает совсем другие мысли. Мой коллега Роман Полански посмотрел ее на английском, и для него она тоже имела свое значение, на что-то в своей личной жизни он, благодаря этой пьесе обратил внимание. Пьеса о том, как справиться с несправедливостью, как жить с тем, когда зло побеждает, остается без наказания, что с этим делать…
А что делать?
В пьесе я попытался ответить на этот вопрос. Человек что-то в себе убивает, если пробует забыть несправедливость и зло. Многие думают, что простить можно, если человек просит прощения, то есть он осознал и раскаялся. А что делать, если тот, кто сделал зло, прощения не просит, не признает себя виновным? В этом случае справедливость гораздо важнее. Я объясню. Вы знаете, вся Европа имеет христианские корни, где у милосердия особая роль. И милосердие, на мой взгляд, идет в связке со справедливостью. Уверен, что можно простить, когда человек даже не признался, не покаялся, не понял, что он сделал другому человеку. В этом сила того, кто прощает.
А вы умеете прощать?
Стараюсь. Я не могу сказать, что умею, потому что даже критику простить трудно. Бывает, что критик меня где-то оскорбил, где-то несправедливо назвал, и забыть это сложно, а ведь в жизни бывают вещи гораздо хуже, чем плохая рецензия.
Вам 71 год, ваши картины известны, имя – даже у людей, которые плохо знают кино, - вызывает уважение и осознание масштаба, и вам до сих пор важно мнение критиков?
Всегда важно. Критик, чьи слова авторитетны для людей, может отогнать от меня публику или мотивировать ее посмотреть мои картины. Важно, чтобы критика очень помогала в течение жизни: я помню, что вся польская школа кино развилась благодаря нашей критике, благодаря тому, что критики помогли нам понять самих себя. Это самое главное в критике, а не суд – критика не должна судить. Самый глупый критик – это тот, кто говорит "нравится – не нравится". Это никому не интересно. Критик должен показать, какое значение имеет или не имеет данное произведение искусства, в каком контексте и что оно значит, на что оно похоже или не похоже. Это задача критики, а мнение должно остаться за зрителем. Критик - комментатор, а не судья.
Скажите, а почему вы выбрали именно эту пьесу для Беларуси?
Потому что там есть проблема несправедливости, насилия, а я подозреваю, что и в вашем, и в нашем обществе мы столкнулись с этими понятиями. Особенно отношения с властью очень сложные. Эта пьеса не имеет политического подтекста, но я думаю, что с этической точки зрения она очень актуальна.
И эту актуальность поймет каждый, кто посмотрит пьесу?
Надеюсь на это.
С какой стороны вы, работая над этим спектаклем, узнали белорусских актеров?
Свою главную актрису, Татьяну Бовкалову, встретил на фестивале в Киеве у Богдана Ступки, с которым я тоже работал, – мы вместе заседали в жюри. Уже в тот момент я был очарован этой замечательной женщиной. Потом я приезжал в Минск, на "Листопад", и решил посмотреть спектакль в Русском театре, где работает Татьяна. Там в маленьком эпизоде я заметил еще актера с удивительной силой выражения – Александра Ждановича, и подумал, что с этим человеком я бы с удовольствием поработал. Я уверен, что это удивительно выразительный, богатый актер, он заслужил гораздо большей известности, чем имеет сейчас. Третий участник этого проекта – замечательный актер Валерий Шушкевич. Таким образом мы решили, что будем работать вместе. На первый взгляд, это случайность, но в этом тоже проявляется мой вкус к людям. Есть люди, на которых я реагирую хорошо, а есть люди чужие, с помощью которых я ничего нового не скажу.
Нужно хорошо чувствовать людей...
Конечно. Но это в режиссере самое главное. Хорошо сделанный подбор актеров – это половина успеха.
А белорусские актеры отличаются от их коллег из Западной Европы?
Конечно.
В чем особенность белорусов?
В этом вопросе много национальных стереотипов, которых я немного боюсь. Конечно, я вижу здесь определенную пассивность, определенную подчиненность, которую в актерах других стран не встречаю.
В других странах актеры более свободны?
Более свободны, безусловно. Понимаете, люди в Западной Европе уходят с подмостков в свою частную жизнь, и в ней они выражают себя без каких-либо ограничений. Но, возможно, это мой стереотип, так как, наверное, нельзя воспринимать жителей вашей страны через призму трех белорусских актеров.
А есть ли что-то, что, благодаря нашим актерам, вы открыли в себе?
Это довольно интимный вопрос. Скажу лишь, что у меня хорошие и глубокие впечатления от этих людей. От встречи с новым, интересным, богатым человеком я тоже богатею, и большой положительный момент моей работы заключается в том, что после таких контактов что-то всегда остается у меня внутри.
Они жили у меня дома, там проводили репетиции – это ненормальный театр, не фабрика.
То есть у вас уже традиция – приглашать актеров к себе?
Да, я так поставил уже несколько пьес, и это тоже огромная радость. Моя жена мне это позволяет, разрешает принимать актеров в качестве гостей. Тогда, помимо репетиций, есть ежедневная жизнь, есть прогулка с собаками, обед.
Есть еще быт… Вы об этом?
Конечно. Это и есть настоящий контакт. Я здесь потерял этот контакт: мы встречаемся с моими актерами на сцене – это уже формальные контакты. А дома мы ежедневно обсуждали вопросы, не касающиеся пьес, смотрели вместе кино, ездили в театр, ходили к знакомым – жили в одном ритме, - и в этом смысле мы стали гораздо ближе друг к другу и понимали друг друга лучше, нежели при обычной работе, когда актеры и режиссер встречаются в театре.
Вы сказали, что белорусские актеры помогли вам сделать некие открытия в себе…
Да, я уверен, что открытия будут продолжаться до смерти. За Варшавой, где я живу, есть тетя, которой 106 лет, и она постоянно занята: она занимается благотворительной деятельностью, помогает слепым детям, хотя сама уже не видит. Несмотря на ее возраст, открытия в себе она делает постоянно. Оказывается, что и в 106 лет можно продолжать узнавать себя с новой стороны. И этот пример мне очень помогает.
Вы такой активный… А можете позволить себе полениться, поболеть, просто ничего не делать?
Я бы хотел, но не удается. Я думаю: время идет, а в мире еще столько интересных вещей, людей, событий… Иногда я уезжаю на пляж и немного отдыхаю, но бывает это крайне редко.
В момент премьеры спектакля вы где будете находиться – в зале или за кулисами?
Я чаще работаю на Западе, а там режиссер всегда находится за кулисами. Я должен быть с актерами: в европейских театрах, скажем, бывает, что недовольные их игрой люди забрасывают героев помидорами, если спектакль им не нравится. И режиссер должен успеть защитить своих актеров, закрыв их собственной грудью (смеется. – Прим. авт.). Я думаю, что актеры должны чувствовать, что я с ними, а не где-то по ту сторону сцены среди публики, которая их судит. Я не могу их судить: я вместе с ними, и отвечаю за то, что мы сделали вместе.
А переживать будете?
Конечно. Никогда нельзя быть безразличным к тому, как сыграют актеры, какой будет реакция. Мы имеем определенную цель, мы хотим прорваться к публике, и потому надо посмотреть, достигли ли мы этой цели, хорошо работали над пьесой, или где-то попали впросак. Это всегда риск: я не могу сказать, что точно знаю, что все будет хорошо. Надеюсь, но не знаю.
А за кулисами во время премьеры вы какие-то советы даете?
Нет, в такой момент мешать не надо. Актер должен быть в трансе, должен забыть, что он играет, должен жить в этой роли. Конечно, можешь где-то слово или совет вставить, но лучше не вмешиваться, чтобы актер даже забыл о том, что я существую, чтобы он вообще забыл, что он в театре. Это своего рода гипноз, и так должно быть.
Но вы волнуетесь.
Конечно.
А как у вас волнение проявляется?
Пальцы кусаю часто. У меня даже есть множество фотографий, где это видно. Это такая реакция, но не опасная – ни одного пальца пока я себе не откусил.
Вы сказали, что переживаете за результат. То есть опасаетесь, что результат может быть плохим?
Конечно. Полного провала в театре я не переживал, хотя в своей жизни поставил около сорока пьес в разных странах. Человек больше рискует, когда уезжает за границу, ведь актеры там местные и их возможности я знаю не очень хорошо. В свое время в Германии, например, с ролью не справилась главная актриса: она была очень известной, но совсем не подходила на роль, и до последнего момента я чувствовал, что она не играет того, что надо. Пьеса прошла, она не стала катастрофой, но я не горжусь ею.
А почему актрису не заменили, когда поняли, что не то?
Потому что были такие условия. Человек не делает всегда того, что он хочет, - только то, что он может. Известная актриса в главной роли – изначально казалось, что это хорошо и лишь после стало очевидно - ошибка. Не надо было ее брать, но производить замены было уже поздно.
Актеры не понимают, что есть не их роли?
Это проблема скромности, того, как человек сам на себя смотрит. Часто бывает, что человек думает, что он к чему-то способен, а он не способен. Может быть, со мной то же самое. Я тоже, может быть, иногда вхожу не в свою в стилистику, и пробую: получится или нет.
Год назад в Италии, в Сиракузах, в огромном открытом греческом театре на десять тысяч зрителей я ставил "Медею". С огромным страхом ее ставил, потому что это не мой театр, я к такому театру не привык. Театр с гигантской сценой, где ставили "Медею" более двух тысяч лет назад. Удивительный опыт. Постановка удалась благодаря главной актрисе, которая вытянула эту пьесу, и я был счастлив. Но это не заслуга, это счастье.
А чем отличается счастье от заслуги?
Иногда я чувствую, что я сам что-то придумал, что это была полностью моя концепция, что я нашел такую актрису или актера, такого сценографа, такой ход. А здесь половина вещей просто пришла сама. Я не чувствовал, что придумал это, но, к счастью, я это принял, и это тоже хорошо.
Иногда бывают и поражения с ограниченной ответственностью. Я пережил поражение, потому что что-то не от меня зависело.
Вы анализируете?
Конечно, я не хочу повторять старых ошибок. Всегда даю совет молодым: не надо учиться на своих ошибках, только на чужих.
В творчестве есть работа над ошибками?
Надо знать, что у человека есть определенная слабость. Нас часто тянет, как мотылька к огню, повиноваться своей слабости. Надо это определить и знать, к чему меня тянет и где моя слабость. Я в этом пробую разобраться всю свою жизнь и обходить те области, где мне хочется что-то делать, но я не должен.
Но соблазн есть?
Есть.
А как противостоять соблазнам?
Нужно понять, прежде всего, что они – слабости - во мне нашли и отреагировать нужным образом.
Недавно вы сказали, что Беларусь для вашей постановки была выбрана потому, что вы поляк, и тем самым отдали этой работой "долг истории".
Конечно, один человек долг истории отдать не может, но я помню историю, то, что мы долгое время были единым организмом, прожили в одном государстве, в котором люди сыграли очень важную роль. Мы в свое время забрали у вас элиту, которая осталась в Польше, что, безусловно, сказалось на дальнейшем развитии вашей страны. Все наши фамилии, которые кончаются на "ич" или "ов", пришли от вас – мы это в Варшаве знаем. И понимаем, что нам в этом плане повезло больше, и тем более хотелось бы где-то вам помочь, быть с вами, не забывать, что была Речь Посполитая, а сегодня мы близкие соседи. Когда я привожу своих гостей в Королевский замок в Польше, я говорю: это построено за деньги не только поляков, но и тех, кто из Вильнюса, Минска, Могилева, Львова и даже Киева. Надо гордиться нашей общей историей.
Наверняка ваш спектакль – это не коммерческий проект: ваши гонорары в Европе – это совсем другие деньги, нежели здесь. Быть и ставить здесь – это ваше личное желание?
Конечно, в таком возрасте и статусе я на гонорары уже большого внимания не обращаю. Для меня важен интерес и процесс.
То, что интерес для вас первоначален, я уже понял. Скажите, вы изначально изучали физику, а затем стали лириком. От физики до лирики сколько шагов? В какой момент происходит переход от одного к другому?
С физикой очень просто: в физику я был влюблен, и влюблен до сих пор, но она меня не очень любила. Я это понял в течение четырех лет. Я вовремя понял, что шансы получить Нобелевскую премию по физике у меня минимальны, и я ее просто оставил. Я был средним студентом, а хуже среднего ученика в науке не придумаешь. Если был бы худшим, я бы сразу бросил. Но это был 1955 год, выбор был небольшим: гуманитарные специальности не изучали, так, как сегодня, всюду был марксизм, а с ним я ничего общего иметь не хотел. После 1956 года наступила оттепель, нам дали право выбора – так я сделал его в пользу философии.
Знаете, из физики я вынес огромное уважение к тайне: физика постоянно общается с тайной. Мы видим, что то, что мы знаем, - это маленькая часть того, чего мы не знаем. Гуманитарные науки живут глубоко в своей гордыне, и им кажется, что все объяснено, что в общество можно проникнуть и увидеть его насквозь, можно понимать все процессы – это неправда. Даже для физиков некоторые процессы в человеческой жизни непонятны и необъяснимы, а искусство всегда рядом с необъяснимым. В искусстве то же: если есть тайна - есть глубина и правда, а если тайны нет, если все объясняется, как в криминальном романе, великого искусства уже не будет.
Получается, что физика и искусство схожи по посылу…
И по посылу, и по отношению к реальности. Настоящий физик к реальности относится с огромной скромностью. С другой стороны, посмотрите, сколько великолепных политиков вышло из среды физиков: Ангела Меркель, Сахаров… Эта среда всегда выдавала миру интересных и сильных людей. Физика – это наука ХХ века.
А философия?
С философией другое. Философия – это, прежде всего, история. Философия помогает формулировать мысль, но это только формулировка. Глубина лежит там, куда слова уже не доходят, поэтому искусство меня увлекает гораздо больше.
Получается, что физика и философия для вас очень грамотно сошлись в искусстве?
Это был драматичный процесс, который длился долгие годы: я десять лет учился, пока не понял, что мне делать. Потом, знаете, пришло такое смешное наказание. Я снимал первую профессиональную картину, была сцена на улице, массовка, и мимо проходил мой отец. Он был инженером, хотел видеть меня архитектором, и все, что я делал, ему не нравилось. Отец подошел и сказал: "Ну вот, десять лет учебы, а ты двигаешь массовку хуже, чем любой полицейский". И он был прав: полицейский умеет управлять толпой, а я не очень умел.
Но вы-то научились управлять умами…
На метафорическом уровне для того, чтобы ум двигался, массовка должна быть хорошо распределена и выглядеть хорошо.
Вы поступили на режиссерский факультет. Ваша дипломная работа "Смерть провинциала" получила приз в Венеции, премию в Мангейме. Если бы вы, нынешний Занусси, были председателем Кинофестиваля в Венеции, вы бы дали приз тому молодому Занусси, начинающему режиссеру, за его работу?
Не знаю, я не видел других лент (смеется. – Прим. авт.). Я все-таки доволен этой картиной, горжусь ею. Она сейчас реставрирована, осталась в человеческой памяти. В ней нет диалога, а там, где нет диалога, образ не так быстро стареет. Речь стареет раньше.
Вы в своих работах к чему стремитесь?
Трудно сказать. Если бы я мог сказать одним предложением, я бы посылал sms своим зрителям. Я всегда пробую что-то выразить, приблизиться к жизненной правде, и иногда это удается. Очень часто мои картины говорят не то, что я бы хотел, - люди в них видят совсем другое. Я только что представлял свои работы в Китае, и видел, что публика, молодая публика, обращает внимание совсем не на то, что кажется главным мне. Они находят что-то другое. В фильмах большое внимание уделяется этическим аспектам, решениям человека, метафизике – тому, есть ли Бог, вмешивается ли он в наши дела или нет. Это тот вопрос, который поставил Достоевский, самый главный вопрос искусства, о котором надо думать. Для большинства китайцев этого не существует. На Тайване существует – там еще сохранилась духовная культура, а в Китае после культурной революции это как будто исчезло, и интерес остался только на уровне взаимоотношений между людьми, а взаимоотношения человека с Космосом им уже не так интересны.
В Индии, скажем, совсем наоборот: человеческое им не так важно, а интересны звезды, судьбы, понятия… И в связи с этим, мои работы и воспринимают там совсем по-другому.
Каждый расставляет акценты, исходя из собственного внутреннего развития, первоочередных ценностей, на которые делают ставку в той или иной стране?
Исходя из своей культуры, своего языка, на котором он привык думать. Язык тоже определяет менталитет. Я владею несколькими иностранными языками и вижу, что когда перехожу с одного языка на другой, начинаю думать немного по-другому. Я сам с собой не согласен, что уже говорить о человеке, который живет в другом мышлении.
Получается, что ваши картины по восприятию многонациональны?
Так очень часто говорят. Я, безусловно, космополит. Это надо объяснить, потому что в советские времена испортили это слово. Этим надо гордиться. Мне льстят люди на Западе, когда говорят: "Вы – космополит, значит, вы умеете оценивать другие культуры". Считаю, что только космополит может быть патриотом. Только человек, который разбирается в других культурах, умеет и сможет их ценить, знает и уважает культуру свою: у него есть возможность оценки. А если он знает только свою культуру, он не может быть патриотом: если он живет в закрытом мире, это не патриотизм. У него практически нет выбора и возможностей. В этом смысле я горжусь тем, что мне удалось в некоторых культурах найти свое место.
По происхождению я итальянец, немного жил во Франции, довольно много работал в Соединенных Штатах, Германии, и во всех этих странах я нахожу что-то свое, хотя мое место в Польше. Но я оцениваю и другие культуры, русскую в том числе, с которой у поляков вечный конфликт – при этом не только культуры, но истории и мышления. Уверен, что для того, чтобы быть настоящим патриотом, нужно быть космополитом.
А для того, чтобы быть настоящим режиссером? Скажите, как сегодня сделать так, чтобы на театральной либо на съемочной площадке все стало единым организмом и заработало на тот самый конечный результат, который затем повлияет на массы?
Самое важное – это ясная цель и контроль нашего эго. Если человек постоянно думает о себе – о том, какое место он занимает, какова его роль, как к нему относятся другие – все эти мысли убивают искусство. Цель должна быть выше меня. Нужно говорить: неважно, что обо мне думают, неважно, кто я, - важно, нравится ли мне то, что я делаю.
О чем тогда в работе думать?
О красоте, о том, что я выражаю, для чего я это делаю.
Но все равно, вы же через собственное мерило, через "я" пропускаете.
Да, но не надо ставить это "я" выше всего. Не ставить себе памятник, а мы так любим.
И вы тоже любите?
Конечно, Боже мой! Вы думаете, что гордыня мне совсем чужда? Нет. Все слабости человеческие мне не чужды.
Как вы себя возвращаете себя на место?
Всегда думаю, что придет наказание. И иногда страх мне помогает осознать и остановиться: я боюсь, что это закончится плохо, если я слишком много внимания обращаю на себя.
Со многими актерами вы работаете впервые. Скажите, в какой момент происходит ощущение и открытие актера для режиссера? В какой момент они начинают вам доверять?
Сложно сказать, потому что в разных странах по-разному. И актеры это лучше знают. Но самое важное для меня – любить актеров.
Вы их любите?
Я должен над этим работать, потому что это не дано мне природой. Часто у меня есть нетерпение, раздражение к актерам, а всего этого быть не должно.
И вы выражаете раздражение?
Это проблема самоцензуры: я должен этого не допускать. Я не могу быть спонтанным. Человек вообще не должен быть спонтанным. Я ненавижу спонтанных людей, потому что они не думают о других. Едут люди с похорон, а кто-то спонтанно радостный – это неприятно. Культурный человек почувствует, что его радость неуместна, и надо на это обращать внимание, смотреть на другого человека, а не на себя. Так и в искусстве. От этого зависит, откроется ли актер, почувствует, что я стою на его стороне, что он мне нравится как человек, как художник. Если он это почувствует, сможет открыться, доверять и со-творчество получится.
А вы жесткий или демократичный режиссер?
Конечно, я знаю свои методы, свой характер. Бывает мягкий деспотизм. Актеры, когда работали у меня дома, сказали мне, что это белый ГУЛАГ. Люди с востока – из Беларуси, России – живут очень медленно. Все тянется, им хочется репетировать три месяца – никто в мире уже столько не репетирует. Работа идет гораздо быстрее и с большой концентрацией – четыре недели. Так что если они ко мне приезжают, то работают по десять часов в день. Они же привыкли работать два-три часа с перерывом на обед.
Но недовольства они не выскажут?
Выскажут, не выскажут, но у нас есть сроки, и надо с большим энтузиазмом работать, чтобы уложиться во время.
Как вы настраиваете их на работу?
Если у меня самого есть настроение и работа радует, тогда и они – радуются и работают.
С возрастом изъясняться при помощи творчества…
… И сложнее, и легче – и это не риторический ответ. В творчестве есть такая опасность: если я уже понимаю, что делаю, тогда этого делать уже не надо, потому что тайна ушла. А если я делаю новый проект, чувствую, что делаю это в первый раз, и открываю новые тайны, тогда я боюсь, как всегда, и тогда все будет свежим. Если я ту же самую пьесу ставлю в третий раз с новым составом актеров, я должен смотреть на нее как на новую пьесу, и если я чувствую это, то это творчество. А если я повторяю то, что уже когда-то сделал, то это уже ремесло – не творческое, а мертвое, и результат будет подозрительным.
А вы ремесла боитесь?
В ремесло можно войти, но нельзя остановиться на уровне ремесла – творчество должно пойти дальше. Ремесло – это просто инструмент, а затем должно прийти вдохновение и что-то более высокое.
Можно ли с возрастом оставаться творчески актуальным?
Конечно, с возрастом появляется другой взгляд на жизнь, на то, как течет время. Для пожилых людей время течет быстрее, для молодых медленнее – это тоже парадокс: молодые люди могут двигаться с ускорением, а время тянется долго. Школьный год так долго тянется, а для меня академический год – это просто мгновение, и уже новый год. В этом и есть разница.
Но с другой стороны, конечно, у молодого человека сильно эго, а с возрастом приходит мудрость, когда эго уходит далеко на задний план, и в этом есть определенная сила. Но все, безусловно, индивидуально. Я знаю столько глупых стариков и мудрых молодых.
Я понимаю, что в Польше сложно следить за тем, что происходит здесь, но все-таки, есть ли у вас собственное отношение к белорусскому кинематографу?
Я помню вашу великолепную киностудию еще с советских времен. Но теперь мы традиционно ожидаем, что из Беларуси приходят только национальные картины о войне, все они говорят одно и то же, не открывая ничего нового. Хотелось бы, чтобы современное белорусское кино мне сказало что-то о современных мечтах, о современных недостатках, о стремлениях молодежи, о том, чего они хотят, чего им недостает. Такое кино имело бы силу, вес. Исторические фильмы – это поиск мифа, который должен быть в начале развития страны. Я думаю, это не так интересно, оно не приносит удовлетворения, и мы редко его смотрим.
То есть белорусское кино сегодня неактуально?
Боюсь, что не очень актуально. Надо было делать его 40 лет тому назад, после войны – тогда это были сюжеты свежие, а сейчас это уже воспоминания третьего поколения.
Вы будете встречаться с нашим министром культуры, Павлом Латушко. Будете обсуждать какие-то проекты или это встреча старых знакомых?
Я не знаю, посмотрим. Конечно, хотим добиться, чтобы культурный взаимообмен между Польшей и Беларусью был более эффективным. Очень много вещей происходит, много денег выделяется на культуру благодаря европейским инициативам. Было бы хорошо, если бы нам удалось объединиться и создавать совместные проекты в театре, кино, музыке... Я надеюсь, что будет возможность поговорить об этом с вашим министром.
Важно, что он – представитель поколения, которое имеет другой опыт, вырос уже в другой реальности, и надеюсь, что он своими решениями может выразить чаяния молодого поколения, фрустрацию которого я часто здесь, в Беларуси, чувствую. Молодым людям надо найти место и понимать возможность перспективы, потому что не может быть развития государства, если молодежь недовольна.
Последнее слово у нас всегда за гостями…
Друзья, жизнь нам дана одна, и в этой жизни нужно постоянно проверять, не теряю ли я времени, хорошо ли использую возможность, которую дает мне жизнь. Не сдавайтесь, даже если тяжело. Если я чувствую страх, ощущение того, что могу проиграть жизнь, я собираюсь с силами, чтобы бороться, чтобы эта жизнь была наполнена смыслом. Не нужно соглашаться со своими неудачами, не нужно их бояться!
Комментарии:
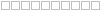
Пока комментариев нет
